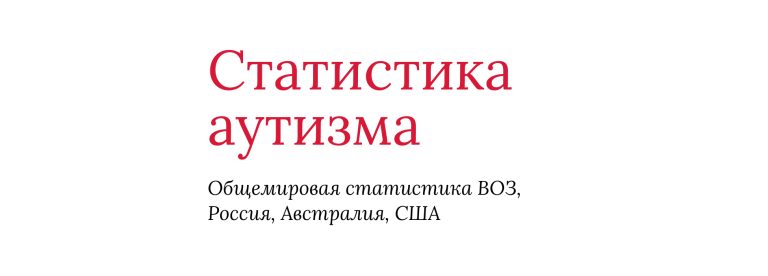«Человек — это человек, а не его болезнь». Зачем учить врачей разбираться в теме аутизма
В 2020 году в фонде «Антон тут рядом» появился курс для психиатров и неврологов «Расстройства аутистического спектра». С тех пор команда фонда запустила проекты для педиатров, тьюторов и родителей, а сейчас к новому потоку курса для психиатров готовит собственную онлайн-платформу.
Как появилось и развивалось это направление? И как отказаться от мечты стать президентом и решить помогать людям — рассказывает директор по развитию фонда Женя Петельчук.
«Базовая гуманистическая ценность»
Сейчас «Антон тут рядом» обучает врачей, тьюторов и родителей. Давай вспомним, как и почему в фонде возникло это направление?
В какой-то момент мы поняли, что есть серьезный дефицит. Нам звонили родители в поисках врача, который мог бы диагностировать аутизм. Они были растеряны, а нам некого было им порекомендовать.
В то время с фондом работал только Иван Мартынихин, врач-психиатр, которому мы безусловно доверяли. Это значит, что он не был замечен за назначением страшных и ненужных лекарств и бережно относился к взрослым и детям с аутизмом. А главное — помимо того, что он диагностировал аутизм, он еще мог рассказать, что с ним делать.
Очень важно, чтобы врач при диагностике аутизма рассказывал о том, как заниматься с ребенком и о том, какие есть варианты развития его судьбы.
Тогда этого, кажется, не понимал никто. Для нас было важно поменять эту систему. Так появился курс для психиатров и неврологов «Расстройства аутистического спектра».

Почему за это взялся фонд, а не Минздрав? Ведь фонд не медицинская организация.
Этим никто не хотел заниматься. Я помню свой первый месяц работы в фонде. Я водила чиновника из Минздрава по выставке о том, как может выглядеть жизнь человека в психоневрологическом интернате, ПНИ.
Я говорила, что это страшно для аутичного человека, когда ему в 18 лет меняют диагноз на шизофрению. Что система ПНИ — это катастрофа, насилие.
Мой собеседник не понимал базовую гуманистическую ценность. Что человек — это человек, а не его болезнь.
И все наши приближения к Минздраву были устроены примерно таким образом.
Сейчас мы предлагаем свои программы и курсы университетам и поликлиникам, но они, к сожалению, их не берут.
И все же, разве не было бы обучение эффективнее, если бы его организовывало государство?
Кажется, многие штуки, которые спускают сверху, ни к чему хорошему не приводят. Они будут восприниматься врачами исключительно как какая-то разнарядка.
Важно общаться с врачами, дополнительные какие-то активности устраивать.
А зачем учить врачей разбираться в теме аутизма?
Потому что без компетентных врачей никак. От того, как будет поставлен диагноз и что врач скажет родителям, зависит дальнейшая жизнь человека
Что врачи узнают на курсе?
Как выглядит клиническая картина аутизма, как подобрать терапию при аутизме, как поддержать аутичного человека.
Мы пытаемся делать коммуникацию между врачом и пациентом более бережной. Это вопрос того, какие термины использует врач, как строит диалог, как сообщает диагноз. Например, дает ли человеку время на то, чтобы он переварил информацию? Предлагает ли альтернативы или категоричен в своих суждениях.
Как создавался курс для психиатров?
Я делала все своими руками с поддержкой Лены Фильберт — исполнительного директора фонда. Начинала c составления программы по государственным стандартам и договаривалась с партнерами.
Люба Аркус выяснила, что в Москве есть врач-психиатр Елисей Осин, и в 2019 году он основал Ассоциацию психиатров и психологов за научно обоснованные практики. Они продвигали схожие ценности и очень давно работали в сфере аутизма. Эти врачи стали экспертами курса.


Как бы ты описала подход фонда к организации курсов?
Когда ты заботишься обо всех участниках в процессе. Когда вместо того, чтобы сидеть в аудитории, ищешь классную площадку, где будет приятно. Когда ты настраиваешь процесс таким образом, чтобы у студентов были перерывы на общение. Когда ты интегрируешь в процесс вечеринку или показ фильма.
Что, как тебе кажется, главная сложность, с которой вы столкнулись?
Мы не были готовы к тому, что как только начинаем «раскачивать» ценности врача из государственного сектора, он оттуда моментально уходит. Он по-человечески относится к пациенту и не готов мириться с обратным.
Он уходит в частный сектор — туда, где чувствует себя комфортно. Часто прием в частной клинике стоит дорого, поэтому мы на курсе как будто бы не очень решаем проблему доступной помощи.
Вы придумали какое-то решение этой проблемы?
Мы придумали волонтерскую службу. Это система, в которой врачи из платных клиник готовы бесплатно принимать пациентов с финансовыми сложностями.
В основном она организованно работает в Петербурге и Москве. Она требует мощного административного ресурса. Для этого нужны помещения и договоренности с конкретными клиниками.
Хотелось бы, чтобы поддержка врачей стала более доступна: без ожидания, в любом ближайшем районе.
Какие сейчас результаты курса? Он стоил вложенных усилий?
Появилось больше 150 специалистов, которым мы доверяем. Это очень большая конверсия. Мы понимаем, к кому теперь можем направлять людей в других регионах. Там, где аутичные люди и их родители никогда не имели доступа к проверенным врачам-психиатрам.
«Системная борьба с несправедливостью»
Сейчас над курсами работает целая команда. Чем занимаешься ты?
Я руководитель, который постоянно приходит с вопросами. Например, а точно ли мы делаем то, что нужно? Добиваемся ли мы своих целей? Как мы можем обеспечить устойчивость наших программ?
Как ты оказалась в сфере благотворительности?
Вообще я мечтала быть президентом. Я с детства была уверена, что могу что-то делать, чтобы помогать людям. Я понимала, когда работу менеджера можно было бы сделать лучше. И я была убеждена, что мне нужна профессия, в которой я бы занималась системной борьбой с несправедливостью.
Я не поступила в университет на политологию, поэтому мне пришлось отправиться на факультет социальной работы. Я начала делать свои социальные проекты, ездить по детским домам.
Потом я работала в администрации Санкт-Петербурга, в департаменте социальной поддержки людей с ВИЧ-инфекцией. Там я поняла, что не согласна с тем, что происходит, и мне нужно какое-то другое место, где я могла бы чувствовать себя комфортно. Ничего лучше, чем «Антон тут рядом» тогда, кажется, не существовало.

Как фонд повлиял на твою жизнь?
Я помню у себя раньше ужасное ощущение, что никогда в жизни не хочу работать, потому что мне настолько все не нравилось.
В фонде я чувствую себя счастливой. Рядом люди, которые смотрят на мир так же, как я. У меня есть возможность экспериментировать, возможность менять деятельность. Для кого-то это может быть минусом, многим хочется чего-то более понятного, каких-то конкретных задач. Постоянные вызовы меня бодрят, а не фрустрируют.
Твои дети тоже участвовали в программах фонда: в инклюзивном детском саду, детском лагере. Какие у них впечатления?
Дети в восторге. Кире сейчас 10 лет, и в этом году в лагере она будет выполнять роль напарника аутичного ребенка.
Их опыт просто супер. Они очень сильно отличаются от других детей.
Они видят разнообразие, понимают ценность поддержки. Они видят, что человек, который отличается, не объект для насмешек, а напарник по детским приколдесам.
Это очень интересное знание. Мне оно пришло в 25 лет, а им в 4 года.
«Место, где тебя безусловно примут»
Помимо курса для психиатров, у фонда есть курсы для других специалистов и для родителей. Почему они появились?
Довольно быстро мы поняли, что курса для психиатров недостаточно и буквально через пару месяцев запустили семинар для педиатров.
Психиатрия по-прежнему демонизирована, многие считают, что к врачу-психиатру обращаться небезопасно и не нужно. Педиатр же ведет каждого ребенка с рождения и до 18 лет.
Врач, который регулярно наблюдает ребенка, — это тот самый специалист, который должен заметить аутизм. Он очень бережно должен поговорить с родителем и направить его к психиатру за диагностикой. А мы выяснили, что педиатры не понимают, как выявить красные флаги аутизма.
А как возникла идея школы для тьюторов?
Многим аутичным детям нужны специальные образовательные условия и комфортная инклюзивная среда. И даже если родитель добивается назначения тьютора в детском саду или школе, образовательное учреждение не может его предоставить. Этого специалиста просто нет.
Мы создали школу тьюторов, но даже спустя 2 года мы не совсем довольны тем, как она работает. Мы так и не приблизились к тому, чтобы насытить рынок достаточным количеством компетентных специалистов, потому что сама профессия тьютора не является привлекательной. Это очень тяжелый труд, который низко оплачивается.
Курс для родителей «Ау» недавно собрал 5925 слушателей. С чем ты связываешь его успех?
Этот курс стал результатом нашей коммуникации с сообществом специалистов. Мы поняли, что накопили такое количество знаний, что точно должны делиться ими с родителями.
У родителей мало источников достоверной информации. Они сталкиваются с методиками и практиками, которые либо не доказаны, либо вредны. Еще существует большое количество организаций, которые буквально занимаются выкачиванием денег из родителей.
Растерянность родителей создает запрос на информацию, которой доверяешь и на место, где тебя безусловно примут и поддержат. И для нас очень важно, чтобы родители чувствовали, что наш курс — это как раз то место.
Этот курс собрал врачей, педагогов, специалистов фонда, множество поддерживающих практик. Количество слушателей растет с каждым новым потоком, и нас это бесконечно радует.
Сейчас для нового потока курса для психиатров фонд создает собственную онлайн-платформу. Зачем?
Нам очень хотелось быть еще эффективнее, понятнее, доступнее. Чтобы курс был таким, как в современном понимании выглядит обучение. Когда у человека есть личный кабинет, когда он может отслеживать свои результаты, когда есть интерактивные инструменты и дополнительные материалы, которые его поддерживают на этом пути.
Новый поток курса для психиатров на онлайн-платформе фонда стартует 1 июля.
Заполнить анкету участника курса можно до 17 июня.